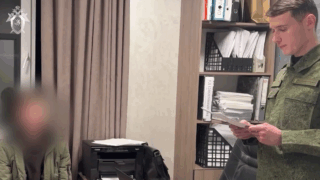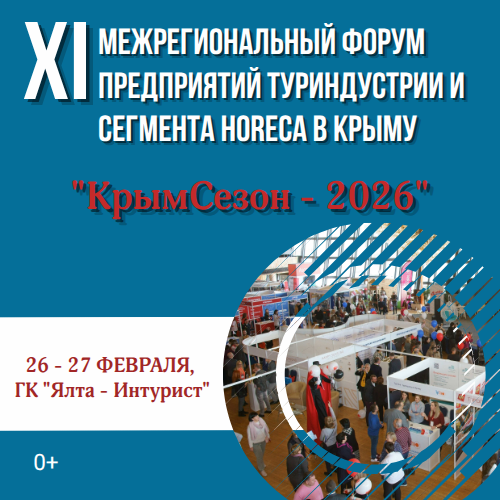Шестого июня Всероссийский день Пушкина. 223-я годовщина со дня рождения гения нашей литературы, о котором знаем, кажется, всё. О его стихах и прозе — да. Редко найдешь семью в России, в которой не было бы книг солнца отечественной поэзии. Но всегда книгочеи хотели знать о жизни гения как можно больше. Задача казалась непосильной. Но вот в середине девятнадцатого века появилась книга П. В. Анненкова «Материалы для биографии» о биографии поэта. Знаток и любитель творчества поэта стал собирать о нем отклики современников и не только, кто когда и что говорил о поэте. О поэте было немало замечательных критических статей и отдельных интересных высказываний людей, близко знавших Пушкина, опубликованных в различных журналах, изысканий и даже ряда монографий.
Но не было книг, которые бы под одной обложкой собрали все эти сведения, высказанные о поэте. Подобных изданий вообще не существовало. А. П. Анненков совершил прорыв. Ему хотелось через эти высказывания разных людей представить читателям личность великого поэта. И ему это удалось. Были, конечно, разные отклики. И положительные, и отрицательные. Почитатели творчества Пушкина были рады услышать оценки его творчества и узнать что-то о его личной жизни. Их оппоненты опасались, что отдельные подробности о жизни поэта могут отрицательно повлиять на представление о классике русской литературы. Кстати, и сам Александр Сергеевич относился к подобного рода публикациям и автобиографиям писателей и поэтов отрицательно.
Узнав, что обожаемый им Байрон уничтожил свою автобиографию, Пушкин писал в письме к Вяземскому: «Он [Байрон] исповедался в своих стихах… В хладнокровной прозе он бы лгал и, то стараясь блеснуть искренностью, то марая своих врагов. Его бы уличили… А там злоба и клевета снова бы торжествовали. Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением».
Правда о Байроне, по убеждению Пушкина, содержалась в его поэзии. Подлинная исповедь поэта — его стихи. Пушкин прекрасно понимал значение поэта как явления в обществе, в мире. Но не был уверен, что нужно говорить о быте поэта. «Толпа жадно читает исповеди, записки, потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении», — писал он в том же письме Вяземскому.
Тем не менее сам Пушкин в это же время делал автобиографические записки, чтобы потом их уничтожить.
Книга Анненкова вышла в конце XIX века вторым изданием. На нее откликнулся Достоевский. В отклике и восторг, и сожаление, даже досада. Достоевский досадовал, что Анненков не пополнил книгу новыми откликами, материалами. В то же время Достоевский отдал должное этому выдающемуся труду Анненкова, сожалел о равнодушии части общества к книге и видел в этом проявление упадка интереса к Пушкину. «Зачем же нам новые труды о Пушкине, когда и старые составляют для большинства публики совершенную новость?» — иронизировал писатель.
Нужно сказать, что большинство наших читателей полагают, что слава Пушкина с самого начала его творчества только росла и ширилась. Это не отвечает действительности. Уже в конце жизни Пушкина читатели к нему заметно охладели. Это угасание интереса к творчеству гениального поэта сменилось ростом интереса после знаменитого выступления Достоевского на открытии памятника поэту в Москве.
Возможно, «Слово о Пушкине» Достоевского, ставшее явлением в общественной жизни России, послужило поводом известному писателю В. В. Вересаеву издать в середине двадцатых годов двадцатого века свою, вересаевскую хронику «Пушкин в жизни». Книга также вызвала большой интерес, но были слышны и голоса оппонентов. И все-таки эта книга Вересаева была в известном роде открытием. В ней, написанной в жанре хроники характеристик и мнений, наружности поэта, привычек, представлены не только стихи и проза Пушкина, но и его облик, личность, поведение, высказывания, замыслы. Книга была издана в 1936 году. Новое издание — в 1984-м. В ней Вересаев отражает зрелый период в жизни и творческом пути поэта. А также новые материалы к биографии поэта. В частности, выдержки из писем Карамзиных, из дневников А. А. Олениной, Гончаровых и других.
О Пушкине, был уверен Вересаев, любопытны все подробности. Однако они были распылены, разбросаны, забыты, затеряны, погибли. Ушли из жизни многие люди, знавшие Пушкина, которые могли немало любопытного рассказать о нем. Сжигались письма, пропадали архивы, исчезли реликвии.
Вересаев, не побоимся высокого слога, совершил после Анненкова подвиг, обратившись к океану по имени Пушкин. Вересаев, по его признанию, однажды, пересматривая накопившиеся выписки, неожиданно увидел, что перед ним оригинальнейшая и увлекательнейшая книга, в которой Пушкин предстал совершенно как живой.
В наше время уже написаны горы исследований о Пушкине, его личности, творчестве. Но можно ли постичь непостижимое? Вот, например, как Пушкин нашел потрясающий ритм, размер неувядающего стихотворения «На холмах Грузии лежат ночная мгла…»? Здесь нам не помощники никакие исследования. Это тайна поэта. И она навсегда останется с ним. И ни с кем больше. Поэтому давайте почаще обращаться к самому творчеству поэта.
Имя Пушкина входит в наше сознание с самых ранних лет, когда матери или бабушки читают нам чудесные пушкинские сказки о царе Салтане, спящей царевне, рыбаке и рыбке, Руслане и Людмиле с завораживающим вступлением, где рассказано в сжатой прекрасной поэтической форме, что ждет юного читателя дальше. Не это ли вступление подсказало Гоголю изложить на первой странице «Мертвых душ» весь сюжет поэмы?
В школе мы учим наизусть стихи Пушкина о нашей русской природе, временах года, отрывки из поэмы « Евгений Онегин»: первую главу и письмо Татьяны Онегину. Увы, часто наши знания о творчестве Пушкина этим и ограничиваются.
Во всяком случае, так заставляют думать телевизионные интервью в канун рождения поэта на улицах Москвы у случайных прохожих. В том числе не забывают проверить знание произведений нашего первого поэта депутатов Госдумы. И они бодро рассказывают нам первые четыре строки из «Евгения Онегина» или из «Зимнего утра», «Осени» — те, что запомнили, учась в школе. Хорошо, что хоть что-то помнят. Плохо, что дальше в книги поэта не заглядывали. Прав Пушкин: «Мы ленивы и нелюбопытны». Эффект от таких интервью обратный, не тот, что ожидали телевизионщики. Тем не менее они из года в год вот уже несколько лет продолжают просить народ прочитать с ходу, что они помнят из Пушкина. Конечно, отрицательный опыт тоже опыт. И всё же, право, неловко. Ведь мы в своем большинстве грамотный народ, а своего главного поэта знаем мало. Может быть, потому, что Россия богата талантами. Вспомним навскидку Лермонтова, Тютчева, Маяковского, Цветаеву, Твардовского и многих других. И всё же… Всё же… Пушкин — наше всё. Пушкин — наше солнце, которое не устает нас греть. За право называть его своим борются даже многие страны Африки, памятуя, что дед поэта был африканцем.
С тревогой жду очередного юбилея поэта и этих уличных интервью. Неужели опять будут нам демонстрировать скорее незнание Пушкина, чем знание? Это, к счастью, не снижает значение Пушкина в нашей литературе и культуре.
«Все мы проходим под аркой известных писателей»,— сказал Леонид Леонов. Так и должно быть. Я люблю Пушкина. Но вместе с тем люблю Лермонтова, Блока, Есенина, других поэтов и писателей». И это не принижает Пушкина, чьи произведения в десяти томах стоят у меня в книжном шкафу в первом ряду, и я время от времени открываю их, чтобы насладиться волшебством строк поэта: «Духовной жаждою томим, // В пустыне мрачной я влачился, // И шестикрылый серафим // На перепутье мне явился» («Пророк»). Или «Пока не требует поэта // К священной жертве Аполлон, // В заботах суетного света // Он малодушно погружен…» («Поэт»). И так можно цитировать без конца. Зачитал я и книгу В. Вересаева «Пушкин в жизни», равно как и «Материалы для биографии» » П. Анненкова, подвигнувшего себя на описание каждого дня прожитого поэтом! Невероятная, немыслимая задача! И с нею во многом автор справился. Благодаря его титаническому труду мы многое можем понять из поступков, создания тех или иных произведений Пушкина, каким он был в жизни и творчестве. Как при жизни оценивали его как человека и поэта современники.
Пожалуй наиболее глубоко сказал о нем польский поэт, хорошо знавший Пушкина, друживший с ним Адам Мицкевич: «Пушкин увлекал, изумлял слушателей живостью, тонкостью ума своего, был одарен необыкновенной памятью, суждением верным, вкусом утонченным и превосходным… Вместо того чтобы с жадностью пожирать романы и заграничные журналы, которые некогда занимали его исключительно, он ныне более любил вслушиваться в рассказы народных былин и песен и углубляться в изучение отечественной истории. Казалось, он окончательно покидал чуждые области и пускал корни в родную почву».
Когда я был в Петербурге, по знаменитому адресу: Мойка, 12, где снимал жилье в последние годы жизни Пушкин, мне запомнился больше всего просторный рабочий кабинет поэта. На столе, за которым были созданы многие бессмертные творения Пушкина, не было ничего, кроме горстки чистой бумаги, чернильницы. А еще стеллажи от пола до потолка по всему периметру квартиры, плотно уставленные книгами. Говорят, там десять тысяч томов художественной русской, западной, античной литературы, книги по философии, истории, религиозного содержания и другие. Многие с пометами поэта. Там невольно вспомнилось, что Пушкин не уставал учиться всю жизнь. Он самостоятельно в возрасте двадцати восьми лет выучил английский, в оригинале читал Байрона и его соотечественников, Данте и итальянских поэтов, переводил с французского, испанского (Сервантеса), польского, старофранцузского, английского. Глубокая и разносторонняя осведомленность его в вопросах искусства, литературы и истории, политики удивляла его современников.
1827—1829 годы — один из самых с плодоносных периодов в жизни поэта. В эти годы он пишет свою знаменитую «Полтаву» — крупнейший шаг в эволюции поэта. Седьмую главу «Евгения Онегина», много лирических стихотворений, в том числе такие шедевры, как «Я вас любил…», «Воспоминание», «Анчар», а также критические статьи, излагающие новые эстетические принципы и взгляды на назначение литературы, ее историческую и социальную роль.
Я побывал и в комнате, в которой прошли последние земные дни поэта после смертельной дуэли.
Что осталось в моей памяти от пребывания в последней квартире Пушкина? Единственная в кабинете поэта картина с кавказским пейзажем. Меня, рожденного на Кавказе, это не могло не взволновать. На Кавказе Пушкин побывал почти мальчиком, юношей, в 21 год сосланный на юг за близость с декабристами. Но все опасные бумаги, которые могли скомпрометировать его и его друзей, Пушкин успел уничтожить заранее до возможных обысков, и его наказание было скорее символическим. Для острастки впредь, чтобы понимал, с кем знаться. Ссылка оказалась благотворной. Проделав длинный и интересный путь от Пятигорска до Тамани и дальше в Крым вместе с семейством генерала Раевского-старшего и его двумя дочерьми, Пушкин создал под впечатлением пребывания на юге ряд стихотворений («Кинжал», «Кавказ», «Я видел Азии холодные пределы», Кто ведал край, где роскошью природы…», пророческое «Умолкну скоро я…») и романтических поэм: «Кавказский пленник», «Тазит». Неплохой урожай вырастил ссыльный!
И это не всё. Богатые впечатления остались у поэта и от посещения Крыма, где он провел около месяца. Услышанное и увиденное в Крыму дало Пушкину материал для поэмы «Бахчисарайский фонтан», стихотворения «К морю», поэтического цикла «Подражания Корану».
Что касается Кавказа, то Пушкину выпадет судьба еще раз побывать здесь. Кавказ всегда играл особую роль в жизни и творчестве русских поэтов. Здесь был другой мир. События разворачивались на фоне величественных гор, жизнь была каждодневно полна реальных, а не мнимых опасностей.
На Кавказ Пушкин стремился потому, что хотел видеть там брата, сосланных друзей-декабристов и, наконец, побывать в действующей армии. В это время армия Паскевича вела успешные наступательные действия против турецких войск. Ему нужны были новые впечатления — и он едет за ними.
Пушкин намеревался также набраться впечатлений о жизни, нравах, обычаях горцев, задумав поэму «Тазит». Он в это время обдумывал и последнюю главу « Евгения Онегина».
Судя по всему, путешествие в Арзрум было для Пушкина временем подведения итогов. Это была последняя глава пушкинской молодости.
Любопытно отметить, что Пушкину в Арзруме нравился свист картечи, музыка боя. Он был смелым и решительным человеком. Но это не нравилось командующему корпусом — генералу Паскевичу. Видя, что Пушкин игнорирует его требования, призвал его к себе и объявил: «Господин Пушкин! Мне вас жаль, жизнь ваша дорога России, вам здесь делать нечего, а потому я советую немедленно уехать из армии обратно, я уже велел приготовить для вас благонадежный конвой».
В тот же день Пушкин покинул Арзрум и через Кисловодск отправился в Москву, где осуществил свою заветную мечту — женился. В семейной жизни с первой столичной красавицей Натальей Николаевной Гончаровой поэт искал счастья, тепла домашнего очага, искал спасения от бытовой неустроенности, романтической вольности. А нашел прямой путь к дуэли и гибели.
Виктор БОГДАНОВ
 фото: сгенерировано нейросетью
фото: сгенерировано нейросетью